Когда посреди бесконечного отчаяния, в котором мы все давно живём и которое непередаваемо, на самом деле. Ну, как объяснить, например, здоровому человеку, что чувствует другой человек у которого, допустим, нет обеих ног. Объяснить это невозможно. Это нужно только пережить самому… Как переживали это безногие солдаты, вернувшиеся с войны.
Итак, когда посреди беспросветного серого отчаяния вдруг ярко расцветёт день и окрасится в зелёное, голубое, розовое, и ты поймёшь, что день будет прекрасен, что шумит весна, что бушуют волны, что дождь всему этому не помеха, что он тоже прекрасен, как и ветер, раздувающий полотнища флагов города…
Да, мне не хотелось идти. Я устала от безнадёги и беспросветья, мне не хотелось видеть город и людей униженными и запуганными (что имеет место быть)… Ведь все мы созданы из плоти и крови, они боятся боли и насилия. Это душа свободна и ничего не боится. Так вот, свидетельствую: я увидела душу города и души людей. Они светились и не боялись ничего.

Люди шли непрерывным потоком. Я рассматривала их, и сердце моё наполнялось любовью и спокойствием. Шли одесситы — молодые и пожилые, было много детей. Как я люблю одесские лица! Вон идёт семья, мама несёт малыша и за руку ведет детёныша лет четырёх. Следом шагают пацанёнок лет семи и девочка лет девяти. Все с букетами сирени. (Сиренью торгуют тут же расторопные одесские колоритнейшие тетки. Они с удовольствием ловят момент. Сирень лежит вокруг них огромными охапками...)
Вернёмся к семье. Замыкает маленькое шествие очень высокий, красивый, с большой растрёпанной бородой и весёлыми глазами отец. Патриарх. Он следит, чтоб никто не потерялся и не отстал. Он — самый главный здесь человек, который отвечает за всё. В руках у него много красных шаров на длинных верёвочках. Шары стремятся улететь в небо, он крепко их держит. Уверена, так же крепко и ответственно он держит свою семью и ведёт её в правильном направлении — на Аллею Славы…

Шествие семьи было красиво и достойно кисти Брейгеля Старшего. В нём (в шествии) скрывалось множество смыслов. Например, я тут же подумала о том, что нет у нас ответственного и любящего патриарха, ведущего радостный народ к правильно выбранной цели.
Потом я увидела семью, состоящую из нескольких поколений. Были самые молодые — от десяти до семнадцати лет — двое парней и две девушки. Парни катили коляску с прабабушкой, она держала в руках букет гвоздик, следом шли дед с бабушкой и их сорокалетние дети… Прабабушка сидела очень гордо и спину держала прямо, как и положено основательнице рода.
Прошла очень модная молоденькая женщина на безумных каких-то платформах, настоящая одесская модница, которые не переведутся, слава Богу, никогда. Она несла в руках несколько букетов ландышей и всё время погружала в них нос. Ей навстречу от памятника двигалась такая же модница в длинном весеннем шелковом ярко–красном платье в белый горох. Платье, несомненно, производило фурор, что моднице очень нравилось… По–моему, она прошлась туда и обратно несколько раз, чтоб закрепить впечатление.

Шёл интеллигентный одесский народ. Я с удовольствием узнавала профессоров, преподавателей, журналистов, ректоров вузов, известных врачей, поэтов и писателей, известного драматурга увидела. Неистребимый дух насмешливой и ироничной «одесскости» витал над толпой…
Шёл простой одесский народ. Валил валом. Кричал песни. Над толпой взлетала то «Катюша», то «Вставай, страна огромная!» Шли пенсионеры, учителя, реализаторы с «7-го километра», водители маршруток, медсёстры, парикмахеры, бизнесмены средней руки… Шла Одесса, разная до невозможности, но отношение к Великому Дню ( а оно ведь в крови у всех нас) объединило их и заставило прийти сюда.
Народ валил уже пятый час подряд, и количество его, слава Богу, всё не заканчивалось и не заканчивалось.
И это было то, что мирный и очень умный Город мог противопоставить всему этому хаосу, беспросветной глупости, дури, тупой силе и требованиям забыть и вычеркнуть из памяти этот день и всю прошлую жизнь, сделав вид, что той жизни как будто бы и не было вовсе. Как будто это можно было сделать! Дури, в которой всё упражнялись и упражнялись недалёкие чиновники. Дури, которая всё не прекращалась и не прекращалась… Но чиновники не понимали, что для того, чтобы принять их дурь, требовалась лоботомия почти для всего народа. Или уничтожение его…
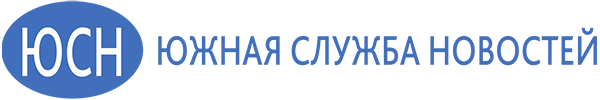
0 комментариев